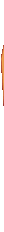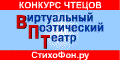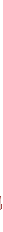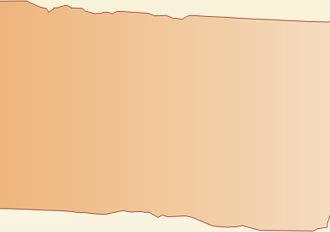- Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда
на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.
"Что, - говорят, - тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, - Емгурчей вор,
ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим.
Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим".
Я отказался.
"На что, - говорю, - мне их больше? мне больше не надо".
"Нет, - говорят, - ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше
Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут".
"Ну, - говорю, - легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их
крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я
их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и
обманывать мужиков станут, как вырастут". Так двух жен опять взял, а
больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но
ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.
- Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?
- Как-с?
- Этих новых жен своих вы любили?
- Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы
принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.
- А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она
вам, верно, больше нравилась?
- Ничего; я и ее жалел.
- И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?
- Нет; скучать не скучал.
- Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?
- Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да
эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек
в один раз парою принесла.
- Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете
"Кольками" да "Наташками"?
- А это по-татарски. У них все если взрослый русский человек - так
_Иван_, а женщина - _Наташа_, а мальчиков они _Кольками_ кличут, так и
моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и
Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только
поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за
своих детей не почитал.
- Как же не почитали за своих? почему же это так?
- Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.
- А чувства-то ваши родительские?
- Что же такое-с?
- Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их
никогда?
- Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь,
а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь,
погладишь и скажешь ему: "Ступай к матери", - но только это редко
доводилось, потому мне не до них было.
- А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?
- Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.
- Так вы и в десять лет не привыкли к степям?
- Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже
когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от
зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу
на степи... в одну сторону и в другую - все одинаково... Знойный вид,
жестокий; простор - краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как
серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а
солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не
предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и
вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и
вспомнишь крещеную землю и заплачешь.
Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и
продолжал:
- Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце
рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого
блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в
какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за
грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там
хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец
пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по
траве пойдет, - суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные,
и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях
заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями
от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять
клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и
пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь:
таволожка, дикий персичек или чилизник... (*20) И когда на восходе солнца
туман росою садится, будто прохладой пахнет, и идут от растения запахи...
Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на
солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время
бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там
- погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна
малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а
только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам
летит - не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет
на солончак, полежит на своей хлупи (*21) и, глядишь, опять схватилась и
опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и
нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя
в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее
зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит -
татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки
тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони
нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы
развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный паст разгребают и
мерзлую травку гложут, тем и питаются, - это и называется тюбенькуют...
Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень
ослабел и тюбеньковать не может - снегу копытом не пробивает и мерзлого
корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру
снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде
как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У
меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть
коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над
очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по
крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже
поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у
нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут,
щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник,
добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним
дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам
отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку
поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья
и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит
пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там
уже более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него
семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из
съестного увидит, просит: "Дайте, - говорит, - мне в газетную бумажку, я с
собой заверну". Ему обыкновенно скажут: "Нету, мол, батюшка, у нас
газетной бумаги", - он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши
своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как
это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу,
и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего
этого счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный,
и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь
потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых но
видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег
инда под коленами протает и где слезы падали - утром травку увидишь.
Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все
были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но
прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с
головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:
- А все прошло, слава богу!
Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как
он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою
пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и
Колек и попал в монастырь?
Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью,
изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.